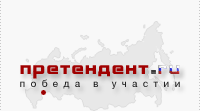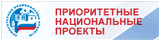Глава из книги Льва Гудкова, Бориса Дубина и Юрия Левады «Проблема "элиты" в сегодняшней России: Размышления над результатами социологического исследования»
![]() «Полит.ру» публикует вводную главу к книге Льва Гудкова, Бориса Дубина и Юрия Левады «Проблема "элиты" в сегодняшней России: Размышления над результатами социологического исследования», изданной фондом «Либеральная миссия». Книга посвящена проблемам и особенностям формирования, самопонимания, функционирования элитарных групп в советской и постсоветской России. На основании серий интервью и анкетных опросов представителей российской элиты, проведенных в 2005-2006 годах сотрудниками Аналитического Центра Юрия Левады, дается социологическая интерпретация понятия «элита» в современной России. В настоящей главе речь пойдет об истории формирования элитарных групп, начиная с царских времен и заканчивая постсоветской реальностью.
«Полит.ру» публикует вводную главу к книге Льва Гудкова, Бориса Дубина и Юрия Левады «Проблема "элиты" в сегодняшней России: Размышления над результатами социологического исследования», изданной фондом «Либеральная миссия». Книга посвящена проблемам и особенностям формирования, самопонимания, функционирования элитарных групп в советской и постсоветской России. На основании серий интервью и анкетных опросов представителей российской элиты, проведенных в 2005-2006 годах сотрудниками Аналитического Центра Юрия Левады, дается социологическая интерпретация понятия «элита» в современной России. В настоящей главе речь пойдет об истории формирования элитарных групп, начиная с царских времен и заканчивая постсоветской реальностью.
В многочисленных дискуссиях о современном положении и перспективах развития российского общества неизменно присутствует «проблема элиты». Анализ обширного эмпирического материала, полученного в ходе исследования, целесообразно предварить хотя бы кратким обсуждением некоторых методологических аспектов постановки этой проблемы и соответствующих дефиниций. Как правило, общественный и публицистический интерес сконцентрирован в данном случае на ответственности нынешней (условно говоря, постсоветской) элиты за кризисы исторического развития страны и поисках выхода из сложившейся ситуации. Социальные и исторические рамки «элиты» как категории исследования общества редко становятся при этом предметом внимания. Между тем при использовании такой категории важно представлять, какие «реальные», эмпирически наблюдаемые группы (социальные слои, типы) к ней могут быть отнесены в определенных условиях, какие функции (задачи, роли) правомерно связывать с деятельностью таких групп в различные периоды. Не углубляясь в методологические тонкости, ограничимся некоторыми необходимыми замечаниями.
В принципе, понятие «элита» — не эмпирическая, а, пользуясь известной терминологией М. Вебера, «идеально-типическая» категория, то есть конструкт, используемый для исследовательских целей. Для определения общественных слоев и групп как элитарных существенны такие признаки, как социальные ресурсы (обладание специальными знаниями, благами, возможностями влияния, доступом к власти), обозначенная обособленность от других групп (престиж, «избранность»), характер деятельности, функции (поддержание порядка, репродукция образца, адаптация или сопротивление изменениям).
При рассмотрении сегодняшних элитарных групп нередко происходит перенесение (проекция) характеристик структур традиционных обществ (сословий, каст, орденов, лож, тайных обществ, «света»), что допустимо в меру понимания условности, метафоричности таких аналогий. Следует принимать во внимание, что механизмы и функции замкнутости, консолидации, рекрутмента («отбора»), высокостатусности современных элит принципиально иные, чем были у средневековых, восточных и прочих их аналогов. И, разумеется, необходимо избегать соблазна — скорее публицистического — приписывать элитарным группам такие антропоморфные признаки, как обладание сознанием, волей, желаниями, «миссией». В дефиниции «элитарности» наиболее важен не «кадровый состав» соответствующих групп, а способ их действия с его нормативно-ценностными и символическими компонентами, «кумирами» и мифами («автомоделями» на языке отечественной семиотики времен Ю.М. Лотмана).
Типы элиты в российской исторической традиции
Практически все современные трактовки и проблемы элитарных групп, барьеров, функций непосредственно восходят к советскому периоду. Принятая пока как единственно уместная характеристика российского общества со всеми его социальными институтами и группами как постсоветского адекватна, поскольку общество, государство и граждане доселе обитают не в «новом» доме, а на развалинах «старого» (советской институциональной и социально- групповой структуры). Более древние конструкции вместе с соответствующим человеческим «материалом» как будто полностью уничтожены после 1917 г. (заметные сегодня натужные воздыхания по былой аристократии и «венценосцам» скорее обозначают отсутствие места соответствующих феноменов в реально значимой социальной памяти). Тем не менее заслуживают внимания некоторые «фазовые» сходства структур, способных воспроизводиться при радикальной смене условий и «материала». Отметим некоторые моменты.
Короткие ряды традиции
Российское историческое время сложено из относительно коротких — по меркам других обществ — отрезков, каждый из которых как бы начинает историю (институциональную традицию и память) заново, «с чистого листа». Каждый период обычно находит свое «оправдание» в отрицании предыдущего правления и расправах с его элитарными структурами. Функции отсутствующей исторической традиции (как инструмента легализации и поддержки существующего порядка) восполняются квазиисторической мифологией.
«Назначенные» элиты
На разных этапах прерывистой монархической истории России наибольшую роль в качестве опор трона, военачальников, наместников почти всегда играла не традиционная знать, выводившая свои привилегии от «Рюриковичей», а «назначенные» элитарные группы и фигуры (дворяне, приближенные, чиновники). В одном из писем князю Курбскому Иван IV утверждал, что перед богоданным самодержцем все холопы, независимо от звания и рода. Как известно, и спустя столетия этот принцип не только постоянно использовался, но и, что не менее важно, с готовностью воспринимался как должное на разных ступенях государственной иерархии — вплоть последнего времени. Социальная категория «пэров» (равных по знатности) практически никогда не работала.
Самозванчество и цареубийство как атрибут наследования власти
Легитимный механизм наследования царских полномочий утвердился в России за сто с небольшим лет до падения монархии, после повторявшихся периодов дворцовых переворотов, цареубийств и самозванчества (как «верхушечного», так и «низового», наиболее яркие примеры XVIII века не нуждаются в напоминании). Притом, в соответствии с архетипической моделью, изученной Дж. Фрэзером (а еще ранее — описанной Шекспиром), причастный к убийству с необходимостью получал корону, менее значимый приз не годился для оправдания злодейства.
От милостей до казней
В структуре самодержавного произвола (царского и последующих периодов) наиболее эффективным инструментом статусного взлета всегда оказывалось благорасположение первого лица, достаточно легко переходящее в подозрительность и гнев (если не со стороны «самого», то со стороны его преемников). Такие карьерные повороты становились практически неизбежными, когда фавориты предъявляли завышенные претензии, например, на роль соперников или наследников. Столь же неизбежно «мотором» карьерного продвижения постоянно, во все времена и при всех режимах служили клановые интриги, лоббизм, доносы и т.п. Критерием сохранения статуса «назначенной» знати оказывалась не эффективность исполнения ею своих функций, а доверие со стороны вышестоящих; тем самым определялись принципиальные различия между «лояльной» бюрократией и ее «рациональными» моделями (по М. Веберу).
Два «модернизационных» мифа XIX века
Первый из них использовал Пушкин, называя правительство Николая I «единственным европейцем», то есть агентом модернизации в духе Петра и его чиновников. «Крестьянский» кризис середины XIX века — не преодоленный и полстолетием позже — показал пределы показной (в основном военно-технической) модернизации без изменения институциональной структуры общества. Еще раньше стала очевидной безнадежная коррумпированность бюрократии в малограмотном и не обладающем правовой культурой обществе. От героизации фигуры Петра просветительская литература перешла к жесткому обличению самодержавно-бюрократических опытов модернизации («История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина). К концу века государственной власти пришлось отказаться от претензий на роль единственной или главной движущей силы европеизации. Проводниками материально-технических компонентов этого процесса выступили бизнес и связанный с ним слой технических специалистов — групп, избежавших славы и претензий на элитарные роли. В значительной мере это обусловлено тем, что в годы, когда — после Крымской войны и реформы 1861 г. — Россия довольно широко открыла двери (уже не «окно») в Европу, промышленная модернизация там испытывала первые тяжелые кризисы, а различные варианты моральной и эгалитаристской критики прогресса находили благодатную почву. В этой ситуации сформировался второй российский модернизационный миф XIX века — «интеллигентский».
Миссия русской интеллигенции — воображаемая и реальная
В собственных и широко распространенных представлениях отечественная интеллигенция брала на себя миссию слома идейных основ патриотического консерватизма («православия — самодержавия — народности») и трансплантации на российскую ниву лучших плодов европейского прогресса и просвещения без его «вредных привычек» (индивидуализма, цинизма). Преданность своему делу, готовность к самопожертвованию, а потом и ореол мучеников «за правду» давали основания придавать деятельности этой специфической социально-нравственной группы ауру вдохновенных неофитов религиозного возрождения. Если оценивать реальные, исторически значимые результаты деятельности интеллигенции за время ее активной жизни (то есть примерно за 50 лет в конце XIX и начале XX века), приходится признать, что разрушительную часть своей миссии она (и ее кумиры) практически выполнила. Н. Бердяев однажды причислил к «духам русской революции» Гоголя, Достоевского и Толстого как разрушителей устоев традиционной России. А со сменой общественно-политической ситуации в стране к концу века нравственные максималисты были вынуждены уступить роль «лидера мнений» не лучшим из собственных учеников — куда более практическим и куда менее нравственно-обремененным адептам радикального терроризма, сначала индивидуального, а потом и массового. И тем самым создать условия для последующего собственного уничтожения — ликвидации интеллигенции как особого социально-исторического феномена и условий ее существования.
Отметим некоторые особенности этого феномена, необходимые для дальнейшего анализа интересующей нас темы. Его носителей никоим образом нельзя представить как профессиональную группу работников какой-то отрасли «интеллектуального труда» («мыслящий пролетариат» в воображении Д. Писарева) или поставить в один списочный ряд с античными жрецами, придворными мудрецами восточных цивилизаций или специалистами новейшего хай-тека — слишком уж разнятся способы и функции использования интеллектуальных «ресурсов» в различные эпохи. К тому же трудно приписать профессионализм и узкую специализацию в какой-либо конкретной сфере вдохновенным интеллигентам, блеснувшим на переломе XIX и XX веков. Специфика — даже уникальность — интеллигентского феномена, в принципе, объяснима особенностями расстановки сил и мнений в российском обществе в период напряженного выбора варианта модернизации. Положение высокообразованной (по чужим, европейским, меркам), оторванной от традиционной «почвы», прямо или косвенно противостоявшей власти и не имевшей даже надежды на массовую поддержку интеллигенции побуждало ее взяться за невыполнимую задачу (и уже попутно разбираться в тонкостях души человеческой). Некоторые аналоги, вероятно, можно найти в модернизационных катаклизмах восточных, африканских, латиноамериканских обществ с существенно понижающим ситуацию коэффициентом: миссию модернизирующих элит там чаще всего берут на себя группы, не прошедшие европейской цивилизационной школы и потому готовые ограничиться соединением нахватанного радикального эгалитаризма (или исламизма) с полученным по случаю стрелковым вооружением и элементами тоталитарных форм государственной организации.
В качестве элитарного фактора русская интеллигенция представляла себя антиподом чиновничества по всем ориентирам (служение — служба, творчество — исполнение, свобода — послушание, мир символов — иерархия начальников, исторический «отбор» — назначение власть имущими и т.д.; нередкие случаи пересечения групп на личном уровне не имели принципиального значения).
Правомерно говорить о противостоянии двух моделей модернизации — бюрократической и интеллигентской (и, соответственно, двух «мифов» русского XIX века). Ни одна из них не была осуществлена до конца, что и создало условия для серии катаклизмов последующего столетия. Это противостояние удалось устранить советской эпохе, формально зачислившей бывшую интеллигенцию в госслужащих.
Русская интеллигенция — классический пример элитарного феномена, не связанного с какой-либо социально-групповой структурой, членством, организационными связями и т.п. Она могла привлекать последователей в разных слоях и сословиях тогдашнего общества, не принадлежа ни к одному из них. В принципе, элитарная группа «интеллигентского» типа консолидирована вокруг символов, а бюрократическая — вокруг должностей. В функции интеллигенции входила консолидация действий и «теченья мыслей» вокруг символических структур, кумиров, «учителей» (притом не только «своих»: когда Ф. Достоевский писал, что у русских «две родины — Россия и Западная Европа», под «русскими» имелись в виду тогдашние интеллигентские просветители). В этой среде выделялся «высший» — символически — слой (знаменитые литераторы, публицисты, художники) и ориентированная на него довольно широкая масса «низовых» последователей (врачи, учителя, земские активисты). Они не пытались «вести за собой» страну или влиять на государственную политику, но реально влияли на нравственную атмосферу в обществе. (Известен разговор двух весьма консервативных по убеждениям литераторов, Достоевского и Суворина, в конце 1870-х гг. на крайне острую тему поднявшего голову революционного терроризма. Осуждая его акции, оба собеседника уверяли, что ни в коем случае не стали бы доносчиками, еcли бы узнали о готовящемся покушении. Напрашиваются сопоставления с позднейшими ситуациями и состоянием общественной атмосферы, когда подобные суждения стали принципиально невозможными.)
Крушение «старых» российских элит
Со сменой эпох (после 1917 г.) прекратили существование все элитарные феномены российского общества, причем это произошло еще до того, как были уничтожены соответствующие социальные группы, классы, сословия. Значительная часть носителей элитарных функций была физически истреблена Гражданской войной и волнами массового террора, некоторые ушли в эмиграцию, но все же главным фактором крушения элитарных структур была ликвидация их функций («места») в обществе, соответствующих ожиданий, символов, мифов. По мере того как советская система создавала свои элитарные вертикали и средства их поддержки, все «старые» конструкты оставались не у дел и утрачивали смысл. Судьба же человеческого («кадрового») состава этих структур оказалась более сложной — немалая их доля с переменным успехом попыталась (или была вынуждена) адаптироваться к новым обстоятельствам.
На протяжении 70 с лишним лет партийно-советского господства элитарные структуры и группы пережили ряд существенных трансформаций.
От революционной элиты к бюрократической номенклатуре
Главная ось всей социальной организации (и, если так можно выразиться, главное социальное изобретение советской эпохи) — всепроникающий механизм партийно-советской номенклатуры, то есть жестко построенной вертикали власти, влияния и контроля во всех областях жизни общества, опиравшейся на назначенных «сверху» и ответственных только перед ним, «верхом», порученцев. В отличие от иных иерархических социальных систем (например, феодальных) самый верхний уровень господства имел возможность непосредственно проводить свои требования на любом уровне вертикали. Формально в стране были задекларированы несколько якобы автономных вертикальных иерархически-властных линий — партийных, советских, «общественных» (профсоюзных, научных, а также специализированных в хозяйственной деятельности, военной, охранительной и пр.), но реальное значение имела лишь одна, именовавшаяся «партийно-государственной» (при том, что «госпартия» политической партией не являлась, а «партгосударство» не было государством в собственном смысле этого слова). Все же прочие линии использовались как источник ресурса для поддержки и прикрытия универсальной «оси».
В период захвата и первичной организации власти в качестве революционной элиты выступала группа, консолидированная общими символами и кумирами, энергией разрушения и унаследованной от «второго эшелона» радикальной интеллигенции готовностью жертвовать чужими и собственными жизнями во имя предполагаемых возвышенными целей. На протяжении ряда последующих переломов эта элита, практически полностью сменившая свой персональный состав, трансформировалась в разветвленную систему все более коррумпированной номенклатурной бюрократии.
В некоторых аспектах («назначенство», контроль сверху, коррумпированность) советская номенклатура выглядела преемником традиций старого чиновничества. Но уже по масштабам численности, претензий, самоуверенного цинизма и безграничного страха перед начальством значительно его превосходила. В отличие от своих предшественников «новая» номенклатура не имела ни своей истории и традиций, ни возможности для консолидации, ни малейших гарантий от постоянно грозивших ей чисток и расправ. Полностью беспомощная перед произволом верхов, она не способна была поддерживать сплоченность собственной корпорации или сохранять какие-то привилегии. Не обладая сколько-нибудь цивилизованными нормами внутригрупповых отношений, номенклатура в этом плане вынуждена была довольствоваться примитивным регламентом волчьей стаи или криминального сообщества. Доминирующим оставался корпоративный страх («все из-за одного», «каждый за себя») и т.п., стимулировавший массовое доносительство и отречение от «захромавших уток», а тем самым и постоянно возрождавшуюся ситуацию корпоративного заложничества.
Существенный момент длительной эволюции постреволюционной номенклатуры — прагматическое «приземление» претензий и уровня самих функционеров. За несколько десятилетий произошел переход от героического образца подвижников мировой революции (Сталин сравнивал партийные кадры с орденом меченосцев) до мелко-суетливых столоначальников разных уровней, заинтересованных в благорасположении начальства и сохранении своих привилегий. В период «застоя», старческого угасания системы господства вышли на поверхность обьщенные (корыстные и статусные) интересы иерархии номенклатурных функционеров. Ориентации на «европейские» рационально-бюрократические стандарты в этой среде никогда не просматривалось. А нагловато-хамский стиль отношений с нижестоящими или «не допущенными» к привилегиям власти постоянно служил прикрытием комплекса собственной неполноценности.
Чтобы поддерживать собственную (по меньшей мере, воображаемую) устойчивость, вертикаль власти нуждалась в ресурсах поддержки разного рода, прежде всего институциональной.
Такой «ближайший» к власти ресурс неизменно поставляли силовые и карательные институты (армия, службы безопасности, суд-прокуратура-ГУЛАГ), чьей функцией было поддержание мобилизационной напряженности в обществе. Но приближенность к власти, оплачиваемая набором привилегий, никогда не означала самостоятельного участия силовых структур в принятии властных решений. Иерархии военного, полицейского и тому подобного управления действовали при властной вертикали. Пресловутые сталинские «чистки» верхушек военных и карательных ведомств были направлены на то, чтобы держать их в таком же состоянии неуверенности, экзистенциального и статусного страха, в котором жила вся номенклатурная бюрократия. (Легенда о попытке карательного ведомства подчинить себе госпартийную вертикаль была пущена в ход Н. Хрущевым, чтобы отвести эффект разоблачения сталинизма от партийной вертикали — и от самого себя.)
Демонстративным апофеозом номенклатурной милитаризации явилась начатая в разгар войны, в 1943 г., затея с переодеванием всей высшей партийной элиты в генеральские мундиры (главнокомандующего — в маршальский). Несколько лет спустя, в конце 40-х, была торжественно введена табель о рангах, мундирах, погонах и пр. уже для целого ряда профессий (от георазведки до почтовой службы).
На поверхности официальной общественно-политической жизни советского времени постоянно (особенно, кстати, в канун очередных ее переломов — в последние годы правлений Сталина, Хрущева, Брежнева) кипели «идеологические» страсти, обличались отступники, провозглашались требования сохранять верность учениям отцов-основателей и — что всегда было более важным — очередным руководящим установкам. Многочисленная армия идеологических надзирателей на всех уровнях властной вертикали (в партаппарате, СМИ, образовательных и ученых заведениях) призвана была следить за соответствием принятым стандартам написанных, произнесенных, даже воображенных текстов. Чиновники общественных наук, активно участвовавшие как в тайных расправах над неугодными, так и в показных мероприятиях, претендовали на статус «идеологической» элиты, для которой в номенклатурной системе не было места. Функционеры идеологического профиля, как правило, занимали второстепенные позиции во властной иерархии («третьи секретари» в парткомах разного уровня). Формально, согласно официальным декларациям, режим опирался на «научную идеологию», на деле же использовал ссылки на «классические источники» в соответствии с конъюнктурными нуждами. Поэтому не вполне адекватна распространенная в советологической литературе характеристика партийно-государственного правления как «идеократии». Апелляции к идеологическим формулам нужны были для самооправдания властной вертикали, а также для поддержания атмосферы единомыслия в обществе (особенно среди его более активной и молодой части).
Каждый шаг по устранению одиозных черт сталинского режима, нормализации отношений с Западом и пр. неизменно происходил под страхом общей катастрофы системы. И наступления ответственности ее лидеров за преступления прошлых лет. Отсюда постоянные акции «сдерживания» критики (показательна череда событий знаменательного и трагического 1956 г.). Ослабление политических репрессий пытались сбалансировать укреплением «идеологической дисциплины» (выражение В. Ягодкина, московского идеологического погромщика начала 1970-х), борьбой с «ревизионизмом», «формализмом» и пр. в среде художников, литераторов, экономистов, философов, социологов и т.д. В сталинские годы все и всяческие прегрешения, приписываемые неугодным, объявлялись политическими преступлениями — со всеми положенными последствиями. А в менее жестокие времена на поверхность выступали идеологические мотивы проработок. Реальная функция карательных акций, массовых или избирательных, оставалась той же — поддержание атмосферы послушного страха и трепета в обществе.
Приложением к «цеху» идеологической поддержки примерно с конца 1920-х гг. служили такие насквозь идеологизированные дисциплины, как официально признанные философия, история, политэкономия и пр., со своей иерархией чинов и званий и деятельностью, слабо напоминающей старомодно-академические области знания. Доминирующими занятиями в этой среде были непрерывные клятвы на верность руководящим силам, а также нескончаемые садистски-сладострастные обличения уклонистов, отступников и прочих супостатов в собственных рядах. Обычной практикой было возвеличивание и ниспровержение временных авторитетов (то есть лиц, таковыми назначенных), превращаемых в мальчиков для показательного битья. После того как поводы и методы подобных акций были преданы забвению, главным плодом долгой (2-3 «рабочих» поколения) деятельности такого рода оказалась относительно многочисленная группа тогдашних выдвиженцев на влиятельные (вплоть до сегодняшнего дня) посты в различных учреждениях социально-научного профиля.
Фантом интеллигенции
В первые советские годы, примерно до середины 30-х, интеллигенция (точнее, люди и традиции, оставшиеся от устаревшей структуры) нарочито третировалась как «чуждое» явление, профессорских детей не хотели принимать в комсомол и ограничивали при поступлении в институты, «интеллигентские привычки» (даже ношение галстуков) высмеивались. Провозглашена была ставка на формирование «своей», рабоче-крестьянской, литературы, «красной профессуры» и т.д. Серия карательных акций против «чуждой интеллигенции», начатая в 1921-1922 гг. (из опасений, как бы нэп не стал могильщиком режима), увенчалась травлей технических специалистов (после сфабрикованного «дела Промпартии»), научных кадров («академические» процессы начала 1930-х) и, наконец, приведением к общему (государственному) знаменателю разнообразия стилей и организаций литераторов, художников и т.д. Со второй половины 30-х гг. прямые репрессии и угрозы (политика «кнута») дополняются политикой «пряника» — снятием ряда ограничений для выходцев из интеллигентской среды, установлением высоких гонораров, доступом к дефицитным благам (квартиры, дачи, автомобили, зарубежные поездки и встречи — разумеется, под бдительным контролем соответствующих органов, цензуры и спецподразделений в самих «творческих» организациях). Ценой признания рудиментарной интеллигенции со стороны власти явился полный отказ от свободы творчества и мысли в пользу «служения» интересам властной вертикали (точнее, выслуживания перед ней). Чем бы ни оправдывалось (субъективно или публично) такое отречение от ценностей, консолидировавших некогда «старую» российскую интеллигенцию, — интересами спасения ценностей культуры, стремлением цивилизовать отношения между властью и народом, просто желанием выжить, — оно означало полную идейную и моральную капитуляцию, сделавшую невозможным существование интеллигенции как социального феномена. Фактическое превращение «творцов» в государственных служащих покончило с историческим противостоянием интеллигенции и бюрократии. (Стоит напомнить, что требование посадить людей «творческих» профессий на казенное жалованье, дабы не допустить опасного вольнодумства с их стороны, прозвучало из уст Хрущева в 1963 г., и газеты уже начали публиковать поток восторженных откликов, но затея оборвалась на полуслове — как и породившая ее противоречивая эпоха.)
«Свободно-парящий разум» (die freischwebende Intelligenz К. Маннгейма), или творческий дух, был недопустим в системе тотального господства. Но некий «интеллигентный» фасад режиму требовался — для самоутверждения и в какой-то мере для международного имиджа. Поэтому властная вертикаль нуждалась не только в постоянном восхвалении своих достижений и вождя (то есть в клакерских аплодисментах, которые обычно обеспечивала «творческая» обслуга среднего уровня с помощью «массовой» литературы, музыки, песен, репродукций и пр.), но и в символической поддержке (или хотя бы лояльности) со стороны мастеров культуры высшего класса. Последним приходилось исполнять функцию ампирного фасада режима.
Специалисты и ученые: под колпаком и на содержании у власти
Положение научного сообщества и ученых («научных кадров») в партийно-советской системе — особая и весьма болезненная проблема. Востребованными были преимущественно прикладные разработки, дающие непосредственный эффект для ВПК, конкурентоспособные и экономически выгодные; «чистая» (фундаментальная) наука и ее творцы почти всегда оставались в загоне. Избирательно поощряя «нужных» специалистов, власть имущие не допускали самоорганизации и взаимной поддержки в научной среде, тем более коллективного сопротивления произволу (можно вспомнить постыдную кампанию 1967-1968 гг. против «подписантов»). Время от времени устраивались идеологические набеги на различные научные отрасли — от математики до биологии, физики, технической кибернетики и пр., причинившие огромный вред целым сферам научного знания и целым поколениям их работников. Глубоко оскорбительным для достоинства серьезных ученых было приравнивание к ним (по статусу) далеких от науки активистов и надсмотрщиков от «общественных» дисциплин. Жесткий бюрократический контроль приводил к тому, что в роли ученых мужей нередко выступали чиновники от научных ведомств, организаторы престижных проектов и просто шарлатаны (типичный, но далеко не единственный пример — «лысенковщина» 50-60-х гг.). «Академический» статус науки и ученых — даже в той ограниченной мере, в какой он сохранялся в советское время, — неоднократно в З0-е, 60-е да и в последние годы оказывался под угрозой.
Необходимость постоянно приспосабливаться к идеологическому прессу и бюрократическому контролю всегда создавала почву для коррумпирования самой среды людей интеллигентных профессий — как нравственного, так и денежного. В принципе, «заказной» отзыв на диссертацию и «заказной» судебный приговор — феномены одного порядка, так как делаются вопреки закону, нормам профессиональной грамотности и этики, за вознаграждение или под страхом наказания. Все более распространенная в последние годы практика денежного подкупа соответствующих функционеров подготовлена нравственной деградацией их цеха в прошлом.
«Демонстративная элита» советского образца
Приметная черта наглухо закрытой или просто отсутствующей общественно-политической жизни советского времени — списки «знатных людей» из различных слоев (академиков, спортсменов, музыкантов, передовиков труда и т.д.), которые заполняли президиумы, награждались орденами, становились депутатами и лауреатами, по мере надобности выступали от имени «общественности» с горячим одобрением или с гневным осуждением тех, кого следовало в данный момент одобрять или проклинать. Никаких реальных действий или собственных мнений от этих людей, конечно, никто не ждал. Списки «знатных» (в позднейшей иронии — «сталинских соколов») контролировались и изменялись в соответствии с конъюнктурой.
Объяснить эту сугубо показную суету в рамках каких-либо рациональных моделей общественной жизни нельзя. Это компонент театра масок, в подлинность которых никто не верит, но почти все согласны с тем, что «так нужно». Со сменой исполнителей и технических средств (ТВ + Сеть) многие роли и приемы того театра продолжают существовать, например, под вывеской казенно-общественных учреждений: потребность в показной поддержке власти показной элитой сохраняется.
Массовое сознание и элита советского времени
По косвенным свидетельствам можно составить лишь приблизительную картину восприятия населением назначенных элитарных групп тех лет. Политическая верхушка, узкая и как будто тесно сплоченная группа «приближенных», явленная народу в повсеместно тиражируемых портретах и списках, представлялась бесконечно удаленной от повседневных забот людей и от образов поведения «обычного», знакомого людям низового начальства (характерное впечатление от внезапного падения Л. Берия: «стены закачались...»). Созданный в середине 1930-х культ верховного вождя, по всей видимости, эмоционально воспринимался на среднем уровне активистов, допущенных к власти, и довольно безразлично — на массовом, потому и прощание с ним прошло спокойно.
На протяжении полутора-двух десятков лет общество воспитывали в духе всеобщего убогого эгалитаризма, презрения не только к богатству, но и к жизненному комфорту. В поисках действенных стимулов к труду в 30-е гг. шаг за шагом внедряются различные (символические и материальные) меры поощрения «ударной» работы и «выдающихся» достижений. (Шоковый шаг: установление размера сталинских премий I степени в 300 тыс. рублей при средней зарплате менее 100 руб. — пролог к созданию значимой иерархии привилегий в самой вертикали власти.)
Массовая зависть населения к знатным («назначенным») и богатым не перешла в какие-либо активные установки отторжения от пирамиды привилегий, но подпитывала готовность участвовать в кампаниях доносительства и травли, направленных против ее уже поверженных функционеров.
Некоторые итоги: неустойчивость советских «эрзац-элит»
За семь десятилетий своего существования партийно-советский режим не создал ни эффективных институциональных структур, ни устойчивых социальных конструкций, пригодных для исполнения опорными элитами своей роли. Произвол и «назначенство» (иерархия временщиков и самозванцев на вертикали власти) обрекали на непрочность практически любые, даже благие, намерения и метания. Приближенность к власти или относительно высокий потребительский статус (допуски к благам) не могли создать «настоящую» элиту (традиционную, «достижительскую» или рационально-бюрократическую), консолидированную и уверенную в своем статусе и престиже. В лучшем случае можно было говорить о подобии элит или заменителях, эрзац-элитах власти и различных сфер. Разлом и крушение советской системы за последние 15-20 лет обнаружили ограниченность этих структур со всей очевидностью.
Расцвет и крушение иллюзий «перестройки»
Главная иллюзия инициаторов, а отчасти и сторонников «перестройки» — представление о возможности коренным образом изменить общественно-политическую систему страны «сверху», то есть с помощью госпартииного механизма. По сути дела, речь шла о бюрократической модели преобразования (косвенный римейк старой модели бюрократической модернизации). Как стало ясно уже примерно за год до августа 1991 г., влияние М. Горбачева на этот механизм оказалось слишком слабым, а сам механизм — совершенно непригодным для выполнения такой задачи. В годы гласности получили известность интеллигентские движения и клубы, выступавшие за «демократическую», или «радикальную», перестройку, они пользовались некоторым благорасположением власти, но значительного влияния не имели. Горбачев опирался на сравнительно небольшую реформаторскую группу из высшего партийного руководства, не решаясь вырваться из пут партийного аппарата и пойти на создание движения, партии или системы реально действующих государственных институтов демократического типа.
Конкурентные выборы и открытая трибуна депутатских съездов обозначили высшую точку «гласности», но не создали новой системы власти или новой расстановки сил на социально-политическом поле. Публичный характер приобрели околополитические дискуссии в СМИ и на тех же съездах, но не принятие политических решений.
Вторая иллюзия «перестройки» — мелькнувшее было в конце 80-х представление о формировании во взбудораженном обществе новой элитарной структуры на основе коалиции «реформаторской» части партийной верхушки с демократически настроенной интеллигенцией (а также с некоторыми движениями за национальные права и свободу вероисповедания). Вскоре, однако, стало понятно, что значение и прочность такой коалиции сомнительны. Интеллигентская демократия была не у власти, а только при власти — в качестве публицистов, ораторов, реже советников или консультантов, а кроме того и сверх того — в качестве демократического прикрытия бюрократических, а потом и диктаторских способов действия. Позже эти функции обесценились. Как известно, в моменты романтического увлечения «перестройкой», чтобы снискать славу демократов, было достаточно ярких публицистических выпадов против партийной монополии на власть, разработанные программы и платформы не требовались. (Должно быть, во всех известных истории радикальных поворотах во всех странах уровень имевшихся надежд значительно превышал уровень средств для их реализации...)
В ситуации политических кризисов «перестройки» (примерно с 1990 г.), а в дальнейшем — кризисов наследовавших ей властных структур (1993-1994-1996 гг. и т.д.) «верхи» все чаще и откровеннее обращаются за поддержкой и опорой уже не к либерально-интеллигентским группам, а к силовым институтам, то есть к тем, кто в наибольшей мере сохранил свою организацию и направленность после падения советского государства. А либерально настроенным интеллигентам, так и не сумевшим организоваться в самостоятельную общественно-политическую силу, приходится с трудом убеждать самих себя в неизбежности — во избежание худшего — хотя бы условно поддержать какие-то инициативы или кандидатуры от существующей власти. Самый наглядный и поучительный пример — ситуация вокруг президентских выборов 1996 г., фактически проложившая дорогу к смене политического режима после 1999 г.
Новая обстановка: элитарные группы при вертикали власти
Определившаяся в последние годы (ко второму президентскому сроку В. Путина) ситуация в российском обществе суммирует и как бы собирает в один узел накопившиеся проблемы, не решенные ранее. Сдвиги в экономическом положении страны, обусловленные конъюнктурой мирового энергетического рынка, позволили снизить уровень напряженности в ряде болевых точек первых «переходных» лет (невыплаты зарплаты, высокая инфляция) и повлиять на рост оптимистических настроений и ожиданий в обществе, прежде всего в его элитарных слоях и группах.
Общественное недовольство и потенциал протеста сосредоточены преимущественно в менее продвинутых сегментах населения (пожилые, менее образованные). Более активные слои общества, в какой-то мере преуспевшие в годы перемен, оказываются и более лояльными к существующей власти и ее носителям.
Неудивительно, что в таких условиях значительная часть представителей элитарных групп связывает свои надежды с государственной властью и государственной экономикой, с государственной поддержкой науки, образования, здравоохранения и т.д., почти не смущаясь тем, что само государство шаг за шагом утрачивает демократические претензии и приобретает черты абсолютистского деспотизма. Ожидание милостей от власти и страх их утратить по-прежнему разобщают и губят российские прогрессивные элиты.
Заметные перемены в последнее время наблюдаются не столько в соотношении социальных групп, сколько в их составе и генеалогии. В годы перестройки и первоначальных реформ (при Горбачеве и Ельцине) у власти находилась группа выходцев из высших эшелонов партийно-советской номенклатуры, под влиянием обстоятельств вынужденная более или менее радикально изменять свои общественно-политические ориентации. Сейчас эта группа практически полностью покинула политическую сцену, ее место заняли представители другого поколения, лишенные необходимости переживать (или демонстрировать) свой разрыв с советскими стереотипами поведения и сознания. Демонстративный идеологизм партийно-советских времен и последовавшие поиски «идеологии перестройки» при Горбачеве и «национальной идеи» при Ельцине уступили место столь же показному универсальному прагматизму (под прикрытием которого, впрочем, нередко выступают глубоко укорененные установки великодержавности, мирового противостояния, «партийного» единомыслия и пр.). Наиболее подходящими носителями такой «антиидеологической» идеологии выступили кадры менее всего затронутых веяниями перемен исполнительских служб старого госаппарата, принесшие с собой профессиональные атрибуты — стиль спецопераций, агентуру, маски, скрывающие лица, неограниченные силовые приемы и т.д.
Изменения внутри элитарных (высокостатусных, высокообразованных) групп также в значительной мере связаны со сменой поколений и стиля деятельности. Уходят или отодвигаются на второй план люди, которым приходилось выдерживать идеологические и бюрократические «накаты» советского периода, а в начале новых времен разделять демократические надежды. Выдвигаются люди, не знавшие такой общественно-политической школы и связывающие свое статусное и материальное возвышение уже с прагматическими обстоятельствами пореформенных лет.
После ликвидации зачатков публичной политики значимые перемены произошли в функциях СМИ и деятельности групп, относимых к медиасообществу: место обличительной публицистики заняли шоу и политреклама, провозвестники перемен вытеснены цинично-технологическими манипуляторами новой формации.
При отсутствии «госпартийной» монополии на кадровую политику чиновникам околовластных структур (свите, обслуге) приходится дилетантски, «вручную» распределять привилегии и тумаки во всех углах государственного хозяйства, в том числе и по отношению к элитарным группам. Как и в «добрые» старые времена, жесты внимания и адресные подачки одним сочетаются с усилением контроля над всеми, а также с установками на практическую (согласно новейшей моде — и на экономическую) эффективность. Наглядный показатель унизительного презрения власть держащих к «высоколобым» — использование их в составе декоративных прикрытий (например, «Общественной» палаты).
Вряд ли можно сегодня — и в обозримом будущем — ждать сенсационных поворотов в настроениях элитарных (как и прочих) групп российского общества. Повторно вступить в бурный поток «перестроечных» надежд никому не удастся. (Условного «нового Хрущева» ждали 20 лет, «нового Горбачева» как будто не ждет никто.) Факторами изменения обстановки могут стать эрозия нынешних массовых надежд, исчерпание материальных и моральных ресурсов существующей расстановки общественных сил. Обстоятельное изучение динамики общественных настроений важно для понимания тенденций назревающих перемен и готовности к ним различных социальных групп.
По источнику Полит.РУ